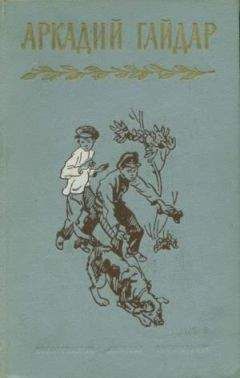У железнодорожного телефона офицер старался перекричать шум приближающейся перестрелки:
– Да. Слышу. Ну? Нет, нет. Куда там, к черту, удержимся… Отходим.
Задребезжало разбитое стекло. Белою пылью отскочила от стены штукатурка. Бомбой влетел другой.
– Скорей! Скорей!.. Охватывают.
Снова звякнуло окошко. Бешено заметалась рикошетом пойманная пуля.
На ходу обернувшись, бахнул один из нагана по аппарату. Сразу оборвался дробный звонок.
Вырвали поводья из рук вестового казака. Вскочили на коней, ударили шпорами.
Но уже зарвался чуть ли не с тылу десяток красноармейцев. Заметили.
– Ого-го-го!.. Крой, братва!
Один сверкнул золочеными погонами и грохнулся с разбитым черепом возле покосившегося крылечка.
– Сковырнулся… Сволочь.
Утихала стрельба. Перекатывались эхом приближающиеся крики. Белые отступали. Громыхая, промчались на окраины двуколки с пулеметами. Смыкались и подходили разбросанные далеко в стороны, запыхавшиеся от быстрого бега цепи. Наткнувшись на убитого офицера, остановились двое.
– Глянь-ка! Прапорщика убили, – захлебываясь от удовольствия, проговорил тот, что был помоложе. – Ловко это его!
– «Пра-апорщика»! Эх ты, Рязань косопузая, али по погону не видишь, что подпоручика.
– Ну, пущай подпоручика, – ответил несколько смущенно тот. – Я при погонах-то не служивал.
– Сапоги хорошие.
– Не сымай, спросить надо.
– Ишь ловкий! Пока я спрашиваться побегу, ты сам снимешь.
Вечерело. Умолкли и последние одинокие выстрелы.
К поповскому дому, в котором расположился штаб, разматывали провод полевого телефона.
Прискакал конный ординарец и передал приказание– на разъезде закрепиться и вести разведку.
Разъезд был маленький, домиков стояло совсем немного. Далеко не всем пришлось разместиться под крышами. На сыроватых лужайках загорелись костры, и насели, как грибы, котелки с кипятком.
Шинелишки в тот год были худые, ботинки рваные, а осень холодная. Зато кипяток горячий и живительный.
Вылез из красноармейского мешка оставленный к вечеру кусок черного хлеба. У некоторых экономных счастливцев даже тщательно завернутый в тряпочку огрызок сахара. «Чай», подернутый оставшимся на стенках котелка от обеда салом и заваренный пережженной коркой, сильно пахнул дымом. Его пили с наслаждением, причмокивая и больно обжигая губы об алюминиевые и жестяные кружки.
Разговаривали кучками.
– Оставьте полчашечки, – подошел к одной группе красноармеец.
– «Полчашечки»… – протянул насмешливо другой. – Чего сам не скипятишь?
– Поставить некуда.
– Нету, брат, нас и так четверо… Катись колбасой. – И он продолжал прерванный рассказ: –Да. И такое у него вышло дело – полушубок на нем был теплый, дубленый, валенки хорошие, подшитые. А как попался, совсем невзначай. Случай такой вышел. Казаки разговаривают промеж собой, один спрашивает: «Зачем его в штаб вести, одёжа хорошая, давай здесь утопим». Другой соглашается: «Давай, мол». А лед в те поры толстый был. Подвели это его к проруби и говорят… Эй, эй, ты чего из-под моего котелка огонь удвигаешь? – рассерженно закричал рассказчик, заметив, что кто-то втихомолку орудует у костра. – Смотри-ка, все уголья повыгреб. Ишь, лень самому нащипать, черту… Да. Подвели это они его к проруби и велят: «Раздевайся, скидавай полушубок». А он спрашивает: «Сволочь вы белая, а хрена с маслом не хотите?» И прыгнул сам в прорубь, только его и видели.
– С валенками?
– Со всем, как есть.
Помолчали с минутку красноармейцы… Задумались.
– Дак ведь ему все равно – и так и так конец был бы.
– Нет, уж это ты оставь.
– Тоже конец концу рознь бывает… Да…
Холодный ветер играл углями потухающих костров. Мерно хрустели овсом лошади. Усталость брала свое. Засыпали, тесно сбившись для тепла кучками, винтовку приладив сбоку под живот.
У поповского дома ламповым светом желтели окошки. Там работали. То и дело пел монотонно аппарат. Борющийся со сном телефонист вскакивал, передавая трубку:
– Товарищ командир! Из штаба бригады. Только что сообщили, что слева у дивизии белые снова перешли в наступление.
В стеклянном шкафу от тяжелых шагов по заплеванному полу чуть дребезжала посуда. Колыхались подвешенные на тесемочках херувимчики с белоснежными крыльями и сусальным золотом раскрашенные писанки. Мерно – точно маятники.
Коротко, твердо командир приказал:
– Дежурный! Сторожевым заставам и полевым караулам не спать, сам проверять буду.
– Не спят, товарищ командир.
– А сейчас пришлите ко мне начальника пешей разведки Горинова.
Опять втроем и вместе.
Шесть дней отступали тогда остатки разбитой бригады с Украины проселочными, лесными, болотными дорогами к Гомелю.
Жгло напоследок сентябрьское солнце. Чуть-чуть шумели желтеющие леса. Неторопливо колыхались упругими стеклянно-зеленоватыми волнами Днепр и Десна. Переходы курсанты делали большие, верст по 40–50. Выступали, едва брезжил рассвет, и шли до ночи. От земли пахло сеном, яблоками, спелыми дынями и осенью. Неподвижно висели в ослепительной глубине коршуны. И каркали сверху – точно нехотя – редко и глухо.
Кругом бродили мелкие шайки, охотились за отстающими, но на целые партии нападать не решались. Проходя через одну из деревушек, узнали случайно, что кулаки отправили депутацию к Петлюре.
На четвертый день, утомленные, остановились передохнуть на день. С рассветом тронулись дальше.
Остаток пути в 70 верст прошли бодрее, иногда даже в ногу и с песнями. Песни были громкие, веселые и, перекатываясь, будили улицы вымерших деревень. Мужики качали с удивлением головами:
– Ишь ты! Язви их – распевают.
Вечерело, когда измученные остатки бригады курсантов подходили к городу.
Белым серебром отсвечивали утонувшие в темной зелени купола церквей и стены чистеньких домиков Гомеля.
У Сергея сочились капли крови из растертых ног. Еле ступал Николай.
В эту ночь курсанты спокойно спали по казармам и по квартирам.
На другой день Николай узнал, что баржа с семьями комсостава, на которой была Эмма, прибыла сюда еще две недели назад, вся продырявленная пулями белобандитов, но без потерь.
Сразу вздохнулось легче.
Недолго простояла бригада. Через два или три дня ее отправили для расформирования в маленькое местечко Черниговской губернии – Городню… Здесь друзья ничего не делали. Отдыхали среди увядающей природы. Крепко спали свежими осенними ночами, зарывшись в мягкое сено, под темным, мерцающим звездами небом. Старались ни о чем не думать и не вспоминать, набирая сил. Через две недели разъезжались в разные стороны остатки славной бригады. Уезжали партии под осажденный Петроград, на польский и деникинский фронты. Прощался с друзьями Ботт. Он уезжал в одну, они трое – в другую сторону. Крепко сжимались их руки напоследок.
Задымились уносящиеся паровозы. Открылись семафоры к югу, к западу и к северу.
От командира полка Сергей вернулся озабоченный. Вошел в избу, переполненную спящими вповалку красноармейцами, и дернул Николая за рукав:
– Вставай, Колька!
– Чего там?
– Вставай, дело есть.
– Встаю… Эх, Сережка! Сон я какой видел, а ты перебил.
– В другой раз досмотришь.
На крыльце им повстречался Владимир, за которым уже посылали.
– Вот что, ребята. В разведку! Одну в Волчанку, другую в Овражки. Слева белые, а у нас что-то больно тихо.
– В Волчанку? – переспросил Владимир. – Ведь это верст пять будет.
– Ничего не поделаешь, тут уже с уставом считаться не приходится. Сам знаешь, при полку кавалерии двадцать человек.
– А Овражки где?
– Там же, только правее немного. Маленькая деревушка возле леса.
– Экая темнота, – ворчал Николай, отходя с отрядом.
– Темнота, брат, для разведчика первое дело.
– Первое-то оно первое, да только глаза-то у кошки занимать придется.
– Кто идет? – негромко ответили из-за кустов.
– Свои.
– Пропуск!
– Броневик.
– А рота какая?
– Разведка.
– Проходи.
За линией сторожевого охранения отряд разделился.
– Ну, Николай, смотри. В случае чего, держи к нам.
– Ладно. Прощайте.
– Прощай.
Сквозь голубые окна в облачном небе бросало солнце серебристые пятна на голые поля увядшей земли. Бледно-зеленым холодным светом играли прозрачные дали. К безлюдной деревушке осторожно подходила небольшая разведка.
На единственной улице ничего подозрительного дозорные не заметили. У колодца баба ведрами черпала воду. Бегал с хворостиной, загоняя жеребенка, мальчишка. Старик засыпал лопатой завалинку возле покосившейся избушки.